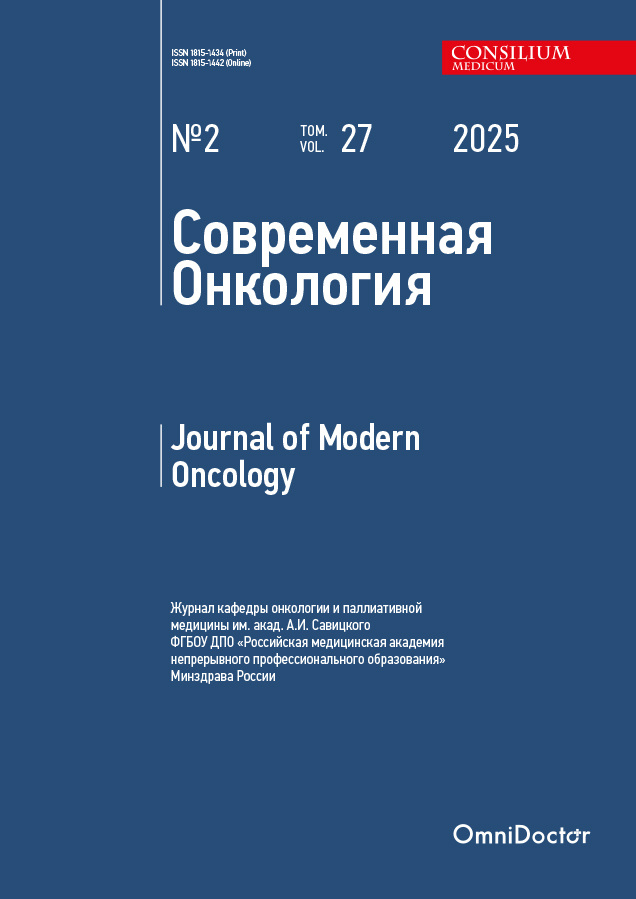Interim results of an multicenter observational clinical study on treatment strategies for chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma in Russia
- 作者: Poddubnaya I.V.1, Ptushkin V.V.1,2,3,4
-
隶属关系:
- Russian Medical Academy of Continuous Professional Education
- Botkin Moscow Multidisciplinary Scientific and Clinical Center
- Pirogov Russian National Research Medical University
- Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
- 期: 卷 27, 编号 2 (2025)
- 页面: 72-79
- 栏目: Articles
- ##submission.dateSubmitted##: 16.07.2025
- ##submission.dateAccepted##: 16.07.2025
- ##submission.datePublished##: 17.07.2025
- URL: https://modernonco.orscience.ru/1815-1434/article/view/687669
- DOI: https://doi.org/10.26442/18151434.2025.2.203332
- ID: 687669
如何引用文章
全文:
详细
Aim. To evaluate the survival rates in patients with chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) in routine clinical practice in Russia and to analyze the impact of clinical and demographic factors on therapy selection and treatment outcomes.
Materials and methods. An observational study of CLL/SLL treatment strategies has been conducted in 34 centers in Russia from 2021 to the present. Effectiveness was assessed based on survival rates, clinical characteristics, and therapeutic approaches. Statistical analysis included descriptive methods and Kaplan–Meier curves for survival outcomes. Cox proportional hazards models were used to assess the influence of various factors on progression-free survival (PFS).
Results. As of the interim analysis (2021–2024), a total of 2,094 patients were included in the study. The majority of the cohort consisted of male patients (54.11%) aged ≥ 65 years (59.8%). Most patients (77.94%) had a favorable performance status of 0–1 according to the ECOG scale. Among molecular-genetic alterations, wild-type TP53 (86.43%) and IGHV (69.27%) were most commonly observed. According to the analysis of treatment data, the most frequently prescribed combinations were FCR (22.32%) and RB (18.67%). In later treatment lines, the proportion of targeted therapies increased. Overall survival among 1654 patients with known treatment start date remained high throughout 10 years of follow-up, and was 93.88% by year 10. Progression-free survival (PFS) was assessed for all patients receiving first-line therapy, including retrospective data. PFS was assessed separately for the second and subsequent lines by type of therapy. PFS among patients who received first-line therapy, regardless of the type of chemotherapy and the presence of TP53/IGHV mutation after 5 years was 76.93%. PFS in the targeted therapy group in patients who received the third, fourth and subsequent lines of therapy was significantly higher than in the immunochemotherapy group (p = 0.001 and 0.009 respectively). According to the Cox model, among patients who received first-line therapy, a significant association of a reduced risk of progression with male gender was shown (HR 0.52, 95% CI 0.33–0.82; p < 0.005). There was a trend towards an association of TP53 mutation with a high risk of progression (HR 2.02, 95% CI 0.91–4.51; p = 0.084), but statistical significance was not achieved. In patients who received the third, fourth and subsequent lines of therapy, targeted therapy was significantly associated with a lower risk of progression (HR 0.16, 95% CI 0.05–0.53; p = 0.002 and HR 0.27, 95% CI 0.10–0.75; p = 0.012, respectively).
Conclusion. The interim analysis showed generally favorable PFS dynamics, but some subgroups of patients, e.g., those with TP53 mutation, demonstrated a less favorable prognosis. Targeted therapy was significantly associated with a lower risk of disease progression among patients receiving third, fourth, and subsequent lines of therapy. The obtained results confirm the data on the high efficiency of targeted therapy in the treatment of CLL/SLL, especially in patients with an aggressive course of the disease and unfavorable prognostic factors.
全文:
Введение
Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ)/мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (МЛЛ) представляют собой биологически единую нозологическую форму В-клеточных опухолей, отличающуюся степенью вовлечения периферической крови. ХЛЛ/МЛЛ – это вялотекущее злокачественное заболевание, характеризующееся повышенной продукцией зрелых, но нефункциональных В-лимфоцитов.
С эпидемиологической точки зрения ХЛЛ является наиболее распространенным лейкозом у взрослых. По данным европейских стран, заболеваемость достигает 5 случаев на 100 тыс. человек в год, а у лиц старше 70 лет превышает 20 случаев на 100 тыс. человек в год. Медиана возраста при постановке диагноза в Европе составляет 69 лет [1–4].
В России ХЛЛ встречается несколько реже: в 2017 г. показатель заболеваемости достигал 2,95 случая на 100 тыс. человек, а медиана возраста на момент установления диагноза составляла 68 лет [5].
В мире ежегодно регистрируется около 191 тыс. новых случаев ХЛЛ/МЛЛ и фиксируется порядка 61 тыс. смертей, связанных с этим заболеванием. ХЛЛ имеет немного более высокую заболеваемость среди мужского населения, чем среди женского (1,3:1 и 1,7:1). Однако некоторые исследования показали, что у женщин заболевание может протекать в более агрессивной форме, чем у мужчин [6–8].
Лечение ХЛЛ требует индивидуального подхода, основанного на клинической картине и биологических особенностях заболевания. Современные терапевтические подходы включают применение биологических агентов, таких как ибрутиниб, акалабрутиниб, занубрутиниб и венетоклакс, особенно у пациентов с неблагоприятными генетическими особенностями (например, del(17p) или TP53-мутациями) [9]. Традиционные химиотерапевтические режимы – например FCR (комбинация флударабина, циклофосфамида и ритуксимаба) или RB (комбинация ритуксимаба и бортезомиба) – могут обеспечить длительную ремиссию, особенно у молодых пациентов с мутацией генов вариабельного региона иммуноглобулинов (IGHV), но часто сопряжены с высокой токсичностью и риском развития вторичных злокачественных опухолей [10, 11].
В настоящее время выделяется четыре ключевых прогностических фактора, влияющих на прогноз ХЛЛ: мутационный статус IGHV и TP53, клиническая стадия заболевания, возраст пациента [12]. Неблагоприятными факторами являются немутированный IGHV, продвинутая стадия заболевания, пожилой возраст и наличие мутации TP53, что требует перехода к таргетным препаратам, таким как ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб, акалабрутиниб, занубрутиниб) [9] и ингибитор антиапоптозного белка В-клеточной лимфомы (венетоклакс), чтобы улучшить клинический исход [13].
Цель исследования – оценить показатели выживаемости у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ в рутинной клинической практике в России, а также проанализировать влияние клинических и демографических факторов на выбор терапии и исходы лечения.
Материалы и методы
Популяция исследования
Критерии включения предусматривали наличие подтвержденного диагноза ХЛЛ/МЛЛ, возраст от 18 лет и способность подписать информированное согласие. На момент включения некоторые пациенты могли находиться на стадии заболевания, при которой применяется выжидательная тактика (watch and wait).
Методология исследования
Исследование сочетало в себе как проспективный, так и ретроспективный сбор данных. На ретроспективном этапе в момент включения пациента в исследование в базу вносились все имеющиеся сведения из медицинской документации до даты подписания информированного согласия.
Проспективная часть включала 5 плановых визитов: исходный (подписание согласия и сбор исходных данных), промежуточные (каждые 6 мес при терапии и 12 мес – при выжидательной тактике) и завершающий через 24 мес.
Общая схема исследования предусматривает участие около 6 тыс. пациентов из 40 исследовательских центров в Российской Федерации. На момент проведения промежуточного анализа в исследование включены 2094 пациента из 34 центров с 2021 по 2024 г., что позволило получить первые данные о демографических и клинических характеристиках, а также о тактиках ведения и результатах лечения в реальной клинической практике.
Оценка эффективности
В качестве первичной точки выбраны сбор и анализ ключевых данных, потенциально влияющих на течение заболевания и выбор лечения: возраст, пол, дата постановки диагноза ХЛЛ/МЛЛ, сопутствующие заболевания, статус по шкале ECOG (0-1 или ≥ 2), стадия по Rai (0–IV), а также результаты цитогенетических исследований, включая мутационный статус TP53 и IGHV, наличие комплексного кариотипа, трисомию хромосомы 12 и статус del13q, del(13q), del(11c), del(17p).
Вторичные конечные точки – оценка методов лечения (как предшествующих, так и текущих схем лекарственной терапии), сопутствующая терапия, продолжительность госпитализаций. Дополнительно анализировались основные результаты лечения, в том числе определение рецидивирующего или рефрактерного течения. Показатель выживаемости без прогрессирования (ВБП) рассчитывался для пациентов, получавших 1-ю линию терапии от начала лечения до момента прогрессирования заболевания, смерти по любой причине или прекращения участия в исследовании. Отдельно ВБП оценивалась для каждой последующей линии терапии в зависимости от вида (таргетная и иммунохимиотерапия – ИХТ). Общая выживаемость (ОВ) определялась от начала лечения до смерти по любой причине.
Оценка безопасности
В связи с неинтервенционным характером исследования сведения о профиле безопасности получены из вторичных источников (медицинских записей), но не анализировались в промежуточном отчете.
Статистические методы
Методы статистического анализа базировались преимущественно на эпидемиологических методах. Демографические и клинические параметры обобщались с помощью частот и процентов для качественных переменных, при этом для процентных значений указывались 95% доверительные интервалы (ДИ). Количественные данные описывались посредством среднего значения, стандартного отклонения (SD), медианы, минимального и максимального значений, а также межквартильного интервала (Q1–Q3) и 95% ДИ.
Показатели ВБП и ОВ оценивались путем расчета медианного времени до наступления события и 95% ДИ, а также визуализированы в виде кривых Каплана–Мейера с ДИ, рассчитанными по методу Гринвуда. Все конечные точки анализировались в общей популяции исследования, а также в подгруппах, сформированных на основании мутационного статуса TP53 (дикий тип, мутация) и IGHV (дикий тип, мутация), возраста (≤ 65 или ≥ 65 лет), пола (мужской или женский), статуса по ECOG (0–1 или ≥ 2) и стадии заболевания по Rai (0, I–II, III–IV).
Результаты
Демографические характеристики пациентов
В промежуточный анализ вошли данные 2094 пациентов. В исследуемой популяции незначительно преобладали пациенты мужского пола: 45,89% (961 пациентка) составляли женщины и 54,11% (1133 пациента) – мужчины. Данные о возрасте являлись доступными для 2085 пациентов. Средний возраст составлял 66,29 года (95% ДИ [65, 88–66, 71]); при этом 40,2% пациентов – моложе 65 лет, а 59,8% пациентов – в возрасте 65 лет и старше. Похожие пропорции наблюдались и при оценке возраста на момент постановки диагноза (среднее значение – 61,33 года). Оценку сопутствующих заболеваний проводили с помощью Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Средний балл по системе CIRS составлял 6,02 (95% ДИ [5, 62–6, 41]), что свидетельствовало о достаточно высоком уровне коморбидности в исследуемой выборке.
Сопутствующие заболевания классифицированы согласно предпочтительным терминам (preferred term – PT) по классам систем органов (system organ class – SOC) в соответствии с медицинским словарем регуляторной деятельности (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Наиболее часто встречавшимися сопутствующими заболеваниями по категориям SOC стали «Нарушения со стороны сердца» (39,26%), «Желудочно-кишечные нарушения» (12,7%) и «Нарушения метаболизма и питания» (12,13%); табл. 1.
Таблица 1. Демографические характеристики пациентов и сопутствующие заболевания (N = 2094)
Table 1. Patient demographics and comorbidities (N = 2094)
Характеристика | n/N (% по группе) |
Пол | |
Женщины | 961/2094 (45,89) |
Мужчины | 1133/2094 (54,11) |
Возраст | |
Среднее значение [95% ДИ] | |
< 65 | 839/2085 (40,2) |
≥ 65 | 1246/2085 (59,8) |
Возраст на момент постановки диагноза | |
Среднее значение [95% ДИ] | |
< 65 | 835/2079 (40,2) |
≥ 65 | 1244/2079 (59,8) |
Сопутствующие заболевания | |
CIRS, среднее значение [95% ДИ] | |
SOC Нарушения со стороны сердца | 822/2094 (39,26) |
PT Фибрилляция предсердий | 62/2094 (2,96) |
PT Эпизод желудочковой аритмии | 2/2094 (0,10) |
SOC Желудочно-кишечные нарушения | 266/2094 (12,7) |
SOC Нарушения метаболизма и питания | 254/2094 (12, 13) |
SOC Нарушения со стороны сосудов | 250/2094 (11,94) |
PT Артериальная гипертензия | 97/2094 (4,63) |
SOC Инфекции и инвазии | 179/2094 (8,55) |
SOC Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы) | 154/2094 (7,35) |
Примечание: n – число пациентов с исследуемой характеристикой, N – общее число пациентов.
Среди 2094 включенных в исследование пациентов состояние по шкале ECOG оценено у 1351: баллы 0–1 по шкале ECOG зарегистрированы у 77,94% (1053 пациента), тогда как у 21,17% (286 пациентов) отмечено ≥ 2 баллов; для оставшейся части пациентов данные о функциональном статусе оказались недоступны или оценка общего состояния по шкале ECOG не проводилась.
Анализ по системе стадирования Rai проводился для 295 пациентов из 2094: 12,20% находились на стадии 0 (36 пациентов); 60,68% – на стадиях I–II (179 пациентов), а 27,12% – на стадиях III–IV (80 пациентов); при этом у значительной доли пациентов сведения о стадии по системе Rai отсутствовали.
При оценке молекулярно-генетических и цитогенетических нарушений у 13,57% (122 пациента) выявлена мутация гена TP53, в то время как у 86,43% (777 пациентов) обнаружен дикий тип. Мутация гена IGHV выявлена у 30,73% (193 пациента), а дикий тип – у 69,27% (435 пациентов). Остальные аномалии определялись реже: комплексный кариотип – у 76 (13,77%) пациентов, делеция хромосомы 13q – у 178 (32,48%) пациентов, делеция хромосомы 11c – у 111 (20,79%) пациентов, делеция хромосомы 17p – у 128 (17,61%) пациентов и трисомия хромосомы 12 – у 41 (8,67%) пациента. Полученные данные отражают невысокую частоту тестирования указанных показателей в реальной клинической практике.
Терапия ХЛЛ/МЛЛ
На момент анализа на 1-й линии терапии находились 51% пациентов (1068 из 2094), на 2-й линии – 18,19% (381 из 2094), на 3-й – 7,4% (155 из 2094), а на 4-й и последующих линиях – 5,35% (112 из 2094). На этапе наблюдения без активного лечения в рамках стратегии watch and wait находились 17,86% пациентов (374 из 2094), по 4 (0,19%) пациентам не имелось доступных данных.
Согласно анализу данных о терапии заболевания наиболее часто применялась схема FCR – у 709 (22,3%) пациентов. Второе место по частоте назначений занимала схема RB – у 593 (18,67%) пациентов.
Анализ клинических исходов проводился по всем линиям терапии в совокупности. Зарегистрировано 45 летальных исходов по любым причинам. Все летальные исходы регистрировались исключительно у пациентов в возрасте старше 65 лет. Детализированные характеристики исходов терапии, включая частоту стабилизации заболевания, частичной и полной ремиссии в зависимости от клинико-демографических и молекулярно-генетических факторов, будут представлены в дальнейших публикациях по завершении исследования.
Общая выживаемость
В начале исследования под наблюдением находились 1654 пациента, для которых была известна дата начала терапии. На первом году зафиксирован 21 летальный исход и 1-летняя ОВ составила 98,25%. Пятилетняя ОВ достигала 94,80%, а 10-летняя – 93,88% (рис. 1).
Рис. 1. ОВ пациентов с ХЛЛ/МЛЛ (N = 1654).
Fig. 1. OS of CLL/SLL patients (N = 1654).
На момент проведения промежуточного анализа данные о возрасте являлялись доступными для 1647 пациентов. У пациентов младше 65 лет (n = 653) 5-летняя ОВ составила 96,09%, а к 10-му году снизилась до 96,09%. В возрастной группе ≥ 65 лет (n = 994) 5-летняя ОВ достигала 94,00%, а 10-летняя – 92,73%.
Среди женщин (n = 745) 5-летняя ОВ составляла 94,88%, а 10-летняя – 93,93%. У мужчин (n = 909) эти значения являлись сопоставимыми: 94,66 и 93,81% соответственно, что указывает на отсутствие значимого гендерного различия для показателя ОВ.
Среди пациентов с мутацией TP53 (n = 114) 5-летняя ОВ составляла 94,59%. У пациентов без мутации TP53 (n = 657) – 95,46% (рис. 2). В группе с мутацией IGHV (n = 142) 5-летняя ОВ составляла 98,81%, тогда как при диком типе IGHV (n = 399) – 91,53% (рис. 3).
Рис. 2. ОВ пациентов с ХЛЛ/МЛЛ с различным статусом мутации TP53 (N = 771).
Fig. 2. OS of CLL/SLL patients with different TP53 mutation status (N = 771).
Рис. 3. ОВ пациентов c с ХЛЛ/МЛЛ с различным статусом мутации IGHV (N = 541).
Fig. 3. OS of CLL/SLL patients with different IGHV mutation status (N = 541).
У пациентов с баллами 0–1 по шкале ECOG (n = 814) 5-летняя ОВ составила 95,77%, а при ECOG ≥ 2 (n = 266) – 92,18%, что указывает на связь между функциональным статусом и выживаемостью. При стадиях Rai 0 (n = 9), I–II (n = 152) и III–IV (n = 76) 5-летняя ОВ составила соответственно 100, 95,02 и 94,69%. Данные ОВ со стратификацией по статусу мутации генов ТР53, IGHV, статусу ECOG и стадиям Rai будут пересмотрены в финальном анализе на достаточном количестве данных.
Выживаемость без прогрессирования
ВБП оценивалась для всех пациентов, включая ретроспективные данные. Отдельно ВБП оценивалась для каждой линии терапии в зависимости от вида (таргетная и ИХТ). Такой подход обусловлен тем, что один и тот же пациент мог получать несколько последовательно назначенных линий лечения в ходе наблюдения и переживать более одного эпизода прогрессирования заболевания.
К концу первого года лечения у пациентов, получавших 1-ю линию терапии, ВБП составила 91,86%, а к 5-му году – 76,93%. Совокупный риск прогрессирования увеличился с 8,48% на 1 год лечения до 26,12% – через 5 лет. Таким образом, риск развития прогрессии неуклонно возрастал с течением времени (рис. 4).
Рис. 4. ВБП у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, получавших 1-ю линию терапии (включая ретроспективные данные; N = 1294).
Fig. 4. PFS in CLL/SLL patients receiving the first-line therapy (including retrospective data; N = 1294).
Данные о молекулярно-генетических маркерах – статусе ТР53 – оказались доступны для 42,93%, статусе IGHV – для 29,99% общего числа включенных пациентов. Среди пациентов с мутацией TP53, получавших терапию 1-й линии (n = 90 на момент начала исследования), особенно резкое снижение ВБП отмечалось после первого года (1-летняя ВБП – 88,48%; n = 16), что свидетельствует о более агрессивном течении заболевания, а к 5-му году ВБП составляла 82,16%. У пациентов с диким типом TP53 (n = 530 на начало исследования) отмечалась более высокая ВБП через 1 год (93,23%), однако к 5-му году ВБП составляла 83,73% и незначительно отличалась от показателей в группе с мутацией ТР53 (р = 0,078); рис. 5.
Рис. 5. ВБП у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, получавших 1-ю линию терапии, с различным статусом мутации TP53 (включая ретроспективные данные; N = 620).
Fig. 5. PFS in CLL/SLL patients receiving the first-line therapy with different TP53 mutation status (including retrospective data; N = 620).
У пациентов с мутацией IGHV, получавших терапию 1-й линии (99 пациентов на момент начала исследования) 1-летняя ВБП составляла 92,10%, 5-летняя – 76,75%. У лиц с диким типом IGHV (n = 318 на момент начала исследования) 1-летняя ВБП составляла 94,16%, 5-летняя ВБП достигала 89,62%; p = 0,6 (рис. 6).
Рис. 6. ВБП у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, получавших 1-ю линию терапии, с различным статусом мутации IGHV (включая ретроспективные данные; N = 704).
Fig. 6. PFS in CLL/SLL patients receiving the first-line therapy with different IGHV mutation status (including retrospective data; N = 704).
В группе пациентов, получавших 1-ю линию терапии ИХТ-препаратами (n = 1018), 1-летняя ВБП составляла 92,79%, а в группе таргетной терапии (n = 102) – 96,77%. К 5-му году наблюдения ВБП снизилась до 73,85% в группе ИХТ, а при лечении таргетными препаратами составляла 86,84% при (р = 0,4); рис. 7.
Рис. 7. ВБП у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, получавших 1-ю линию терапии в группах таргетной и ИХТ (включая ретроспективные данные; N = 1120).
Fig. 7. PFS in CLL/SLL patients receiving the first-line therapy in the targeted and ICT groups (including retrospective data; N = 1120).
Поскольку каждая последующая линия, как правило, назначается пациентам с более агрессивным течением заболевания или неблагоприятным прогностическим профилем, ВБП оценивалась отдельно в зависимости от вида (таргетная и ИХТ) для каждой последующей линии терапии.
ВБП у пациентов, получавших ИХТ во 2-й линии, через 1 год составляла 89,95%, через 5 лет – 39,63%. В группе таргетной терапии ВБП через 1 год достигала 93,26%, через 5 лет – 67,95% (р = 0,5).
У пациентов, получавших 3, 4-ю и последующие линии терапии, ВБП в группе таргетной терапии оказалась значимо выше, чем в группе ИХТ.
У пациентов, получавших 3-ю линию ИХТ, ВБП через 1 год наблюдения составляла 57,94%, а ВБП через 5 лет не могла быть оценена ввиду отсутствия данных. В группе таргетной терапии она составила 94,04% и оставалась на уровне 57,5% через 5 лет наблюдения (р = 0,001).
У пациентов, получавших 4-ю и последующие линии ИХТ, ВБП через 1 год составляла 77,06%, через 2 года – 38,53%, 5-летнюю ВБП не оценивали в связи с отсутствием данных. В группе таргетной терапии через 1 год ВБП составляла 87,85%, через 2 года – 75,7% и оставалась на уровне 58,47% через 5 лет наблюдения (р = 0,009); рис. 8.
Рис. 8. ВБП у пациентов с ХЛЛ/МЛЛ, получавших 2, 3, 4-ю и последующие линии терапии в группах таргетной и ИХТ (включая ретроспективные данные; N = 721).
Fig. 8. PFS in CLL/SLL patients receiving the second, third, fourth and subsequent lines of therapy in the targeted and ICT groups (including retrospective data; N = 721).
ВБП также оценивали для всех пациентов, получавших 1-ю и последующие линии терапии, в зависимости от возраста, пола, статуса ECOG, Rai и вариантов лечения. Оценка ВБП у всех пациентов на всех линиях терапии показала, что у пациентов младше 65 лет (839 пациентов) через 1 год ВБП составляла 91,64%, через 5 лет – 67,89%; у пациентов в возрасте 65 лет и старше (1246 пациентов) показатель ВБП через 1 год составлял 88,20% и через 5 лет – 67,38%. При стратификации по гендерному признаку у женщин (961 пациентка) через 1 год ВБП составляла 55,51, а у мужчин (1133 пациента) – 90,59%. Пятилетняя ВБП у женщин оказалась несколько выше (69,75%), чем у мужчин (64,98%).
Через 1 год ВБП у пациентов с баллами 0–1 по шкале ECOG (1046 пациентов) составляла 91,81%, у пациентов с баллами ≥ 2 (334 пациента) – 87,77%. Через 5 лет у пациентов с баллами 0–1 и ≥ 2 по шкале ECOG ВБП практически не различалась: 73,13 и 74,57% соответственно. У пациентов со стадией 0 по Rai (12 пациентов) ВБП через 1 год составляла 100%, ко 2-му году снижалась до 55,56% (вероятно, из-за малой численности группы), на 5 лет оценка не представлялась возможной ввиду отсутствия данных. При стадиях I–II (206 пациентов) через 1 год ВБП составляла 94,04%, 5-летняя – 85,10%. У пациентов со стадиями III–IV (124 пациента) ВБП через 1 год составляла 88,08%, к 5 годам – 63,40%.
В промежуточном анализе данные о ВБП со стратификацией по типам таргетной терапии представлены на максимально возможный для оценки период. Трехлетняя ВБП у пациентов 1-й линии терапии, получавших схемы, включающие венетоклакс в комбинации с ибрутинибом, составляла 90%, венетоклакс в монотерапии – 100%. Высокие показатели 3-летней ВБП отмечены при назначении ингибиторов тирозинкиназы Брутона, включая ибрутиниб – 89,17% и акалабрутиниб – 75,52%. На 2-й линии терапии 3-летняя ВБП при применении акалабрутиниба составляла 100%, комбинации ибрутиниба с венетоклаксом – 100%. Трехлетняя ВБП при монотерапии ибрутинибом и венетоклаксом составляла 81,0 и 70,8% соответственно. На 3-й линии терапии 3-летняя ВБП группе акалабрутиниба составляла 100%, в группе ибрутиниба – 81,28%. Для комбинации ибрутиниба с венетоклаксом 2-летняя ВБП составила 68,57%, при применении венетоклакса в монорежиме достигнута 2-летняя ВБП на уровне 92,31%. На 4-й и последующих линиях терапии 3-летняя ВБП в группе пациентов, получавших венетоклакс, составляла 91,67%, в группе комбинации ибрутиниба с венетоклаксом – 80,00%, а акалабрутиниба в монотерапии – 88,89%. При монотерапии ибрутинибом 3-летняя ВБП составляла 51,73%. На момент проведения промежуточного анализа невозможно оценить и как-либо интерпретировать полученные результаты в связи с недостаточным объемом доступных данных.
В анализе Кокса фактором, оказывающим статистически значимое влияние на ВБП и ассоциировавшимся со снижением риска прогрессирования заболевания для пациентов, получавших 1-ю линию терапии, являлся мужской пол (отношение рисков – ОР 0,52, 95% ДИ 0,33–0,82; p < 0,005); табл. 2.
Таблица 2. Факторы, влияющие на ВБП: модель пропорциональных рисков Кокса
Table 2. Factors influencing PFS: Cox proportional hazards model
Фактор | ВБП | |
ОР [95% ДИ] | p | |
Пациенты, получавшие 1-ю линию терапии | ||
Возраст ≥ 65 | 0,419 | |
Мужчины | 0,005 | |
ECOG ≥ 2 | 0,846 | |
RAI I–II | 0,145 | |
RAI III–IV | 0,402 | |
Мутация TP53 | 0,084 | |
Мутация IGHV | 0,649 | |
Таргетная терапия/ИХТ | 0,430 | |
Пациенты, получавшие 2-ю линию терапии | ||
Таргетная терапия/ИХТ | 0,494 | |
Пациенты, получавшие 3-ю линию терапии | ||
Таргетная терапия/ИХТ | 0,002 | |
Пациенты, получавшие 4+ линии терапии | ||
Таргетная терапия/ИХТ | 0,012 | |
Не наблюдалось статистически значимой связи с риском прогрессирования заболевания в зависимости от возраста ≥ 65 лет (ОР 1,21, 95% ДИ 0,76–1,91; p = 0,419) и функционального статуса: у пациентов с ECOG ≥ 2 (ОР 1,06, 95% ДИ 0,57–1,99; p = 0,846). Мутация IGHV также не связана с повышением риска прогрессирования (ОР 1,23, 95% ДИ 0,51–2,94; p = 0,649). Наблюдалась тенденция ассоциации мутации TP53 с высоким риском прогрессирования (ОР 2,02, 95% ДИ 0,91–4,51; p = 0,084), но статистическая значимость не достигнута (см. табл. 2).
Хотя таргетная терапия связана с меньшим риском прогрессирования в сравнении с ИХТ, результат не достигал статистической значимости у пациентов, получавших 1 и 2-ю линии терапии. У пациентов, получавших 3, 4-ю и последующие линии терапии, таргетная терапия оказалась статистически значимо связана с меньшим риском прогрессирования (ОР 0,16, 95% ДИ 0,05–0,53; р = 0,002 и ОР 0,27, 95% ДИ 0,10–0,75; р = 0,012 соответственно); см. табл. 2.
Обсуждение
В исследуемой популяции незначительно преобладали пациенты мужского пола, средний возраст включенных пациентов составил 66,29 года, что согласуется с литературными данными о распространенности и группах риска ХЛЛ/МЛЛ [6–8]. Данные оценки функционального статуса по шкале ECOG оказались доступны для большинства включенных пациентов, 77,94% имели благоприятный функциональный статус по шкале ECOG (0–1), в то время как данные по системе стадирования Rai оказались доступны только для 295 (14,1%) из 2094 пациентов; стадии I–II оценены у 60,68% (179 пациентов).
Среди молекулярно-генетических маркеров, по данным литературы, наиболее значимыми в контексте прогноза ХЛЛ считаются статус IGHV и мутация TP53 [12]. В нашем исследовании мутация TP53 выявлена у 13,57% протестированных пациентов (дикий тип – у 86,43%), мутация IGHV – у 30,73% протестированных пациентов (дикий тип – у 69,27%). При этом важно отметить, что для существенной части выборки соответствующие тесты не выполнялись, что указывает на неполный охват генетической диагностики.
Анализ характеристик пациентов, получавших терапию на разных этапах лечения, выявил закономерное нарастание тяжести клинического состояния с увеличением линии терапии. Наиболее многочисленной оказалась когорта, получавшая лечение в рамках 1-й линии (51%), тогда как доля пациентов на 2, 3, 4-й и последующих линиях составила 18,2, 7,4 и 5,4% соответственно. С увеличением линии терапии возрастала доля пациентов старшей возрастной группы (≥ 65 лет), с ухудшением функционального статуса (ECOG ≥ 2), немутированным статусом IGHV, продвинутой стадией заболевания (Rai III–IV), а также наличием мутации TP53.
Показатели ОВ в исследуемой когорте оставались на высоком уровне. К 10-му году наблюдения ОВ составляла 93,88%, что сопоставимо с опубликованными данными о длительном течении ХЛЛ при современных подходах к лечению [6]. Более подробно влияние таких факторов, как возраст, пол, тип терапии и мутационный статус, на ОВ планируется описать по окончании исследования и получении всех данных.
ВБП оценивалась для каждой линии терапии, так как каждая линия отдельно у одного пациента рассматривалась как независимый эпизод наблюдения.
У всех пациентов, получавших 1-ю линию терапии, независимо от ее типа и наличия мутации ТР53/IGHV ВБП через 5 лет составляла 76,93%, что согласуется с показателями, приводимыми в ряде исследований для отдельных групп пациентов (например, у пациентов, получавших терапию 1-й линии, с благоприятным прогностическим статусом) [14].
На этапе промежуточного анализа не обнаружено статистически значимых различий в 5-летней ВБП у пациентов с мутацией IGHV, получавших терапию 1-й линии (76,75%), в сравнении с диким типом (89,62%); p = 0,6.
У пациентов с диким типом TP53 отмечалась более высокая ВБП через 1 и 2 года наблюдения (93,23 и 89,61% соответственно), однако к 5-му году ВБП составляла 83,73% и незначительно отличалась от показателей в группе с мутацией ТР53.
В группе пациентов, получавших 1-ю линию терапии ИХТ-препаратами, к 5-му году наблюдения ВБП снижалась до 73,85% в сравнении с ВБП 86,84% в группе лечения таргетными препаратами (р = 0,4).
ВБП у пациентов, получавших терапию 2-й линии, к 5-му году наблюдения составляла 39,63% в группе ИХТ и 67,95% – в группе таргетной терапии, однако различия не достигали статистической значимости (р = 0,5). У пациентов, получавших 3, 4-ю и последующие линии терапии, ВБП в группе таргетной терапии оказалась значимо выше, чем в группе ИХТ (р = 0,001 и 0,009 соответственно), что согласуется с данными о высокой эффективности таргетных препаратов у пациентов с более агрессивным течением заболевания или неблагоприятным прогностическим профилем.
По результатам оценки рисков на модели Кокса у пациентов, получавших 1-ю линию терапии, показана значимая ассоциация снижения риска прогрессирования с мужским полом, что согласуется с опубликованными данными о более агрессивном течении ХЛЛ у женщин [6–8].
Следует отметить, что ряд ожидаемо неблагоприятных факторов, таких как пожилой возраст (≥ 65 лет), высокий функциональный статус по шкале ECOG (≥ 2), мутации IGHV и ТР53, не продемонстрировали статистически значимой связи с риском прогрессирования заболевания. В частности, наличие мутации ТР53 демонстрировало тенденцию к ухудшению прогноза, однако не достигало уровня значимости. Это может быть связано с ограниченным числом событий.
Для более точных и окончательных выводов потребуются продолжение исследования и анализ полного объема данных.
На текущем этапе исследования данные по ОВ и ВБП не позволяют сделать окончательные выводы о различиях между группами терапии. При этом, учитывая ретроспективный характер исследования, интерпретация данных по ОВ и ВБП требует осторожности и дальнейшего анализа.
По завершении исследования после получения полных данных по выживаемости планируется представить результаты данного анализа отдельно.
Заключение
Таким образом, даже при в целом благоприятной динамике ВБП отдельные подгруппы пациентов демонстрировали менее благоприятный прогноз, в частности, при наличии мутации TP53. У пациентов, получавших 3, 4-ю и последующие линии терапии, таргетная терапия статистически значимо связана с меньшим риском прогрессирования заболевания. Полученные результаты подтверждают данные о высокой эффективности таргетной терапии в тактике лечения ХЛЛ/МЛЛ, особенно у пациентов с агрессивным течением заболевания и неблагоприятными прогностическими факторами.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии личных, профессиональных или финансовых отношений, которые могли бы быть расценены как конфликт интересов в рамках данного исследования. Независимость научной оценки, интерпретации данных и подготовки рукописи сохранялась на всех этапах работы, включая этап финансирования проекта со стороны компании «АстраЗенека».
Disclosure of conflict of interest. The authors declare no personal, professional, or financial relationships that could be regarded as a conflict of interest for this study. The independence of the scientific assessment, data interpretation, and manuscript writing was maintained at all stages of work, including the stage of financing by the company AstraZeneca.
Источник финансирования. Материал подготовлен при финансовой поддержке компании «АстраЗенека». Спонсор не участвовал в сборе, анализе данных, интерпретации результатов. При подготовке рукописи авторы сохранили независимость мнений.
Funding source. The paper was prepared with the financial support of the company AstraZeneca. The sponsor was not involved in the data collection and analysis and the interpretation of results. In preparing the manuscript, the authors maintained the independence of opinion.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Соответствие принципам этики. Исследование проводилось в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации и национального стандарта «Надлежащая клиническая практика». Одобрение протокола исследования получено на заседании Независимого междисциплинарного Комитета по этической экспертизе клинических исследований 08.10.2021, протокол №15.
Compliance with the principles of ethics. The approval and procedure for the protocol were obtained in accordance with the principles of Declaration of Helsinki and the national standard “Good Clinical Practice”. The study was approved at the Independent Interdisciplinary Committee for Ethical Evaluation of Clinical Studies meeting dated 08.10.2021 (extract № 15).
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
作者简介
Irina Poddubnaya
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education
编辑信件的主要联系方式.
Email: ivprectorat@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-0995-1801
D. Sci. (Med.), Prof., Acad. of the RAS
俄罗斯联邦, MoscowVadim Ptushkin
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education; Botkin Moscow Multidisciplinary Scientific and Clinical Center; Pirogov Russian National Research Medical University; Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: ivprectorat@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-9368-6050
SPIN 代码: 8645-7188
D. Sci. (Med.), Prof.
俄罗斯联邦, Moscow; Moscow; Moscow; Moscow参考
- Morton LM, Wang SS, Devesa SS, et al. Lymphoma incidence patterns by WHO subtype in the United States, 1992–2001. Blood. 2006;107(1):265-76.
- Watson L, Wyld P, Catovsky D. Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the European Union. Eur J Haematol. 2008;81(4):253-8.
- Dores GM, Anderson WF, Curtis RE, et al. Chronic lymphocytic leukaemia and small lymphocytic lymphoma: overview of the descriptive epidemiology. Br J Haematol. 2007;139(5):809-19.
- Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer Statistics, 2007. CA Cancer J Clin. 2007;57(1):43-66.
- Каприн A.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2017 году (заболеваемость и смертность). М., 2018 [Kaprin AD, Starinskii VV, Petrova GV. Zlokachestvennye novoobrazovania v Rossii v 2017 godu (zabolevaemost i smertnost). Moscow, 2018 (in Russian)].
- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin. 2020;70(1):7-30.
- Hernández JA, Land KJ, McKenna RW. Leukemias, myeloma, and other lymphoreticular neoplasms. Cancer. 1995;75(S1):381-94.
- Smith A, Howell D, Patmore R, et al. Incidence of haematological malignancy by sub-type: a report from the Haematological Malignancy Research Network. Br J Cancer. 2011;105(11):1684-92.
- Cramer P, Tausch E, Von Tresckow J, et al. Durable remissions following combined targeted therapy in patients with CLL harboring TP53 deletions and/ or mutations. Blood. 2021;138(19):1805-16.
- Fischer K, Bahlo J, Fink AM, et al. Long-term remissions after FCR chemoimmunotherapy in previously untreated patients with CLL: updated results of the CLL8 trial. Blood. 2016;127(2):208-15.
- Eichhorst B, Fink AM, Bahlo J, et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in patients with advanced chronic lymphocytic leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2016;17(7):928-42.
- An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncol. 2016;17(6):779-90.
- Kittai AS, Huang Y, Miller S, et al. Outcomes of patients with Richter transformation who received no prior chemoimmunotherapy for their CLL. Blood Cancer J. 2025;15(1):23.
- Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2017 update on diagnosis, risk stratification, and treatment. Am J Hematol. 2017;92(9):946-65.
补充文件