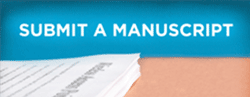The role of ESR1 gene mutation in therapy selection for HR+/HER2- metastatic breast cancer: A review
- Authors: Paichadze A.A.1, Chashnikova E.P.1, Golubeva S.A.1
-
Affiliations:
- National Medical Research Radiological Centre
- Issue: Vol 26, No 4 (2024)
- Pages: 410-413
- Section: Articles
- Submitted: 05.02.2025
- Accepted: 05.02.2025
- Published: 18.02.2025
- URL: https://modernonco.orscience.ru/1815-1434/article/view/653963
- DOI: https://doi.org/10.26442/18151434.2024.4.202990
- ID: 653963
Cite item
Full Text
Abstract
Estrogen receptors are detected in more than 70% of cases of metastatic breast cancer (mBC). Currently, various hormonal therapy options are used to treat these tumors. However, modern oncology faces an acute problem of acquired resistance to hormonal therapy, including late lines of therapy for HR-positive (HR+) and HER2-negative (HER2-) mBC. The common causes of resistance include mutations in the ESR1 gene that are usually absent in the primary tumor. These mutations are associated with aggravation of the disease. Until recently, their detection was only of prognostic value and was not taken into account when choosing the treatment regimen. As the new data become available on the role of mutations in the ESR1 gene and their possible impact on the choice of mBC therapy, it seems appropriate to consider the main criteria for testing and test methods to detect the mutations in routine clinical practice. This review article addresses issues related to optimal treatment for progression of HR+/HER2- mBC during endocrine therapy, taking into account the accumulated data on mutations in the ESR1 gene. We also consider the available data on the studied oral selective estrogen receptor destructors as drugs that significantly increase survival in late lines of therapy for hormone-dependent tumors.
Full Text
Введение
Экспрессия эстрогеновых рецепторов α (ESR1), которые опосредуют действие эстрогена на опухоль, определяется более чем в 70% случаев метастатического рака молочной железы (мРМЖ) [1]. Стандарт терапии гормонозависимого (HR+) и HER2-негативного (HER2-) мРМЖ подразумевает назначение эндокринной терапии с учетом ряда прогностических факторов [2]. Однако, несмотря на высокую эффективность и удобство применения эндокринной терапии, развитие резистентности к ней остается актуальной проблемой, поскольку сужает выбор лечебных опций на поздних линиях [3].
О мутациях в гене ESR1 известно c 1997 г., но лишь в 2013 г. установлена их значимая роль в развитии резистентности мРМЖ к гормональной терапии [4]. Эти мутации редко встречаются в первичной опухоли, однако их распространенность в метастатических очагах после рецидива или прогрессирования на фоне эндокринной терапии значимо увеличивается [5–7]. Ко 2 или 3-й линии терапии эта мутация выявляется в 39,1% случаев мРМЖ в циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК) [8].
Что известно о мутациях в гене ESR1
По результатам генетических исследований при мРМЖ в гене ESR1 преимущественно обнаруживаются мутации Y537S, D538G, E380Q, Y537N, Y537C. Подавляющее большинство случаев приходится на долю Y537S и D538G [9–11]. В половине случаев мРМЖ наблюдаются поликлональные мутации в гене ESR1 [9–11]. Чаще всего мутации выявляют в метастазах, локализующихся в печени и костях скелета, но возможно их развитие и в метастатических очагах по плевре, в легких, яичниках, лимфатических узлах и мягких тканях передней грудной стенки [3].
Недавние исследования показали, что мутации в гене ESR1 с большей вероятностью развиваются у пациенток с мРМЖ после прогрессии на фоне адъювантной гормональной терапии, включающей ингибиторы ароматазы (ИА) [3]. В клинической практике частота мутаций в гене ESR1 коррелирует с резистентностью к ИА [8, 12]. Действительно, ИА подавляют рост опухоли, препятствуя воздействию на нее эстрогена. Мутации в гене ESR1 возникают как способ адаптации опухоли к такому воздействию, что позволяет опухоли расти независимо от гормонального влияния [13]. В исследовании прогностической роли ESR1-мутации при рецидивирующем и de novo мРМЖ показано, что у пациенток, получающих ИА, время до прогрессирования при наличии мутации оказалось существенно короче, чем при ее отсутствии (3 и 15 мес соответственно; отношение рисков – ОР 3,1; р=0,017) [14].
В последние годы появились многообещающие данные по препаратам с другим механизмом воздействия на эстрогеновые рецепторы: пероральным селективным деструкторам эстрогеновых рецепторов (selective estrogen receptor degraders – SERD).
Селективные деструкторы эстрогеновых рецепторов
В терапии HR+/HER2- мРМЖ давно применяется и включен в клинические рекомендации фулвестрант, селективный антагонист эстрогеновых рецепторов. [2]. Он не просто блокирует действие эстрогена, а разрушает рецепторы к нему, поэтому его часто называют представителем I поколения SERD. Такой механизм действия нарушает передачу сигнала по пути эстрогеновых рецепторов и препятствует развитию резистентности к гормональной терапии. Несмотря на многообещающий механизм, другие молекулы SERD долгое время не давали положительных результатов в клинических исследованиях. Молекулы амсенестрант и гиредестрант не продемонстрировали высокой эффективности в поздних линиях терапии HR+/HER2- мРМЖ в исследованиях II фазы [15, 16], вместе с тем результаты исследования гиредестранта II фазы были представлены для перехода к III фазе [17].
Первым успешным исследованием III фазы для II поколения этих препаратов стало исследование EMERALD. В нем сравнивали терапию пероральным SERD эласестрантом (Orserdu, «Стемлайн Терапьютикс Инк.») и стандартную эндокринную терапию (по выбору исследователя) при HR+/HER- распространенном РМЖ [18, 19]. Пациентки до включения в исследование получали не более двух линий эндокринной терапии с добавлением ингибиторов циклинзависимых киназ 4/6 (CDK4/6). Допускалось также применение не более одной линии химиотерапии в анамнезе. Мутация в гене ESR1 выявлена у 47,8% пациенток, что коррелирует с распространенностью в реальной клинической практике [8]. Всего в исследовании EMERALD участвовали 477 пациенток, из них 230 получали препарат эласестрант 400 мг 1 раз в день перорально и 238 пациенток получали стандартную терапию (фулвестрант, анастрозол, летрозол или эксеместан, по выбору исследователя). Число пациенток с мутацией в гене ESR1 в обеих группах было сопоставимо.
Медиана длительности наблюдения составила 15,1 мес. При этом медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП) при применении эласестранта оказалась выше, чем при стандартной терапии по выбору исследователя как в общей группе – 2,8 мес против 1,9 мес (ОР 0,70, 95% доверительный интервал 0,55–0,88; p=0,0018), так и при наличии мутации в гене ESR1 – 3,8 и 1,9 мес (ОР 0,55, 95% доверительный интервал 0,39–0,77; p=0,0005); рис. 1 [18].
Рис. 1. ВБП на 6 и 12 мес в исследовании EMERALD в группе эласестранта и стандартной терапии (выбор по усмотрению врача) в общей выборке и в подгруппе пациенток с подтвержденной мутацией ESR1. Различия между группами эласестранта и стандартной терапии являлись значимыми как для всей выборки, так и для подгруппы пациенток с мутацией ESR1.
Fig. 1. PFS at 6 and 12 months in the EMERALD study in the elacestrant and standard therapy groups (at the discretion of the physician) in the overall sample and in the subgroup of patients with a confirmed ESR1 mutation. Differences between the elacestrant and standard therapy groups were significant for both the overall sample and the subgroup of patients with the ESR1 mutation.
По результатам исследования EMERALD эласестрант одобрен Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарств в США для применения в поздних линиях терапии HR+/HER2- мРМЖ [20]. Это послужило поводом к предложению о проведении анализа на мутации в гене ESR1 в рутинной практике в случае рецидива или прогрессирования HR+/HER2- мРМЖ на фоне 1-й или дальнейших линий эндокринной терапии (с ингибитором CDK4/6 или без него) [21].
Действительно ли эласестрант эффективнее I поколения SERD? В исследовании EMERALD часть пациенток получали в качестве стандартной терапии фулвестрант, и анализ выживаемости между группами фулвестранта и эласестранта показал значимое преимущество испытуемого препарата, особенно у пациенток с подтвержденной мутацией ESR1 [19]. Дополнительные сравнительные данные ожидаются в пострегистрационных исследованиях эласестранта и в текущих исследованиях других молекул этого класса. В частности, положительные результаты в исследовании II фазы [19, 22] показал препарат камизестрант (AZD9833, «АстраЗенека»). В настоящее время идет III фаза исследования этой молекулы (SERENA-6) [23].
С появлением новых препаратов, способных значительно улучшить выживаемость при HR+/HER2- мРМЖ, все чаще встает вопрос о месте препаратов в терапии и своевременности выявления резистентности к гормональному лечению.
Методы диагностики мутаций в гене ESR1
Сегодня доступны методы анализа на мутации в гене ESR1 как в ДНК опухолевой ткани (классическая биопсия), так и цоДНК в образцах венозной крови (так называемая жидкостная биопсия). Анализ венозной крови на цоДНК – малоинвазивная манипуляция, не требующая госпитализации пациента и оперативного вмешательства. Этот метод обладает высокой специфичностью и чувствительностью и позволяет рано выявить мутации в гене ESR1, которые приводят к гормональной резистентности. Он также позволяет анализировать изменения в геноме как первичного, так и метастатических очагов, что делает этот метод универсальным при метастатическом процессе.
В дополнение к анализу на мутации при прогрессировании жидкостная биопсия дает возможность получать данные о мутациях «в режиме реального времени» при наличии факторов, располагающих к развитию резистентности, благодаря удобству многократного анализа по сравнению с классической биопсией.
Что касается собственно генетического анализа, обычно проводят секвенирование генома нового поколения (NGS). Метод хорошо изучен, широко применяется и обладает достаточной чувствительностью. Но набирает популярность и другой метод – цифровая капельная полимеразная цепная реакция (цкПЦР). Он обладает более высокой чувствительностью по сравнению с обычной ПЦР и применяется для подбора таргетной терапии при различных злокачественных новообразованиях, включая РМЖ [24]. Например, метод цкПЦР использовался в исследовании PADA-1, в котором изучалась эффективность фулвестранта в комбинации с палбоциклибом при выявлении мутации в гене ESR1 у пациенток с HR+/HER2- мРМЖ [25]. Однако, несмотря на высокую селективность цкПЦР, преимуществом NGS остается возможность анализа сразу целой панели мутаций, что имеет важное значение при выборе терапии на поздних линиях лечения мРМЖ.
Выбор времени и метода анализа в клинической практике
В связи с одобрением эласестранта Американское общество клинической онкологии (ASCO) в 2023 г. предложило проводить анализ образцов крови или тканей на мутации в гене ESR1 сразу при выявлении прогрессирования на 1 или 2-й линии гормональной терапии по поводу метастатического заболевания в комбинации с ингибиторами CDK4/6 [22]. В дополнение предложено выполнять анализ на мутации PIK3CA, если он не проведен ранее, чтобы индивидуализировать решение о дальнейшей терапии [22]. Несмотря на то, что во многих странах эласестрант еще не доступен, анализ на мутации в гене ESR1 при прогрессировании на 1 или 2-й линии, особенно при применении ИА или при быстром прогрессировании на ингибиторах CDK4/6, может помочь выбрать более эффективную терапию следующей линии.
Следует ли ограничиваться только анализом цоДНК? Целесообразно проведение NGS-тестирования биоптата метастатического очага при прогрессировании заболевания на фоне терапии ИА, поскольку в этот момент возможно появление мутации в опухоли, но ее отсутствие или низкий ее уровень в цоДНК. Быстрое прогрессирование на фоне применения ИА может стать поводом к анализу на мутации в гене ESR1.
Если же биопсия метастатического очага представляется затруднительной или нет архивного образца, то возможен анализ цоДНК. Исследование генетического мониторинга появления мутаций в образцах крови и в опухолевой ткани [9] показало, что частота выявления мутации в гене ESR1 при HR+/HER2- мРМЖ совпадает в крови и в образцах опухолевой ткани, что чрезвычайно важно в клинической практике, поскольку позволяет проводить генетическое тестирование на наличие мутации даже у пациентов с недоступными для биопсии метастатическими очагами. Кроме того, анализ цоДНК можно повторять без существенных неудобств для пациента, если нужно убедиться в правильности выбранной терапии или провести мониторинг в ходе лечения.
В настоящий момент рутинное генетическое тестирование опухолевой ткани и крови на наличие мутации в гене ESR1 не входит в обязательный список диагностических обследований для пациентов с HR+/HER2- мРМЖ. Когда же целесообразно проводить анализ на мутацию с учетом того, что в первичной опухоли она в подавляющем большинстве случаев отсутствует? Возможные критерии для проведения анализа на мутации в гене ESR1, основанные на накопленных данных клинических исследований и реальной практики, представлены далее.
Критерии для анализа на мутации в гене ESR1 при HR+/HER2- мРМЖ:
- рецидив или прогрессирование HR+/HER2- мРМЖ на фоне 1-й или 2+ линии эндокринной терапии (с ингибитором CDK4/6 или без него);
- быстрое прогрессирование на фоне терапии ингибиторами CDK4/6;
- появление метастазов (по возможности с биопсией метастатического очага) и ограниченный выбор гормональной терапии в индивидуальном порядке.
Выбор терапии для пациентов с HR+/HER2- мРМЖ
При метастатическом процессе выбор терапии определяется многими факторами: иммунофенотип первичной и рецидивной опухоли, предыдущая адъювантная терапия и продолжительность ремиссии, общее состояние пациента, в том числе последствия токсичности лечения на предыдущих линиях. В клинических рекомендациях Минздрава России по терапии РМЖ 2021 г. [2] упоминается и генетический анализ на определенные мутации (такие как PD-L1, PIK3CA). Однако указания на определение мутаций в гене ESR1 отсутствуют. Это связано с тем, что на момент разработки этих рекомендаций еще не накоплено достаточного количества данных для понимания роли этой мутации при выборе терапии. Мутации в гене ESR1 могут быть потенциальными предиктивными маркерами для применения препаратов, таких как фулвестрант или тамоксифен, деградирующих и модулирующих эстрогеновые рецепторы (SERD/SERM) в комбинации с ингибиторами CDK4/6. Возможно также назначение гормональной терапии в комбинации с таргетной, например, препаратами капивасертиб, алпелисиб или эверолимус. Но вопрос выбора терапии при выявлении мутации остается очень актуальным, потому что во многих случаях опции гормональной терапии к этому моменту уже могут быть исчерпаны.
Результаты ряда исследований позволяют предположить, что при выявлении мутации в гене ESR1 целесообразно продолжить терапию ингибиторами CDK4/6, поскольку их применение в этом случае сопровождается удовлетворительными клиническими исходами [3]. В частности, в исследовании PADA-1 замена ИА в комбинации с палбоциклибом на фулвестрант (с сохранением палбоциклиба) сопровождалась значимым увеличением ВБП (с 5,7 до 11,9 мес; p<0,0040) [25].
Позитивные результаты терапии HR+/HER2- мРМЖ также показаны при применении модулятора эстрогеновых рецепторов эксеместана. Его применение в комбинации с эверолимусом сопровождалось значимым увеличением ВБП [3]. Сравнительное исследование также показало сопоставимую эффективность монотерапии эксеместаном и фулвестрантом у пациенток с мутацией в гене ESR1 при HR+/HER2- местно-распространенном или мРМЖ [26].
При исчерпании опций гормональной терапии в качестве следующей линии возможно применение химиотерапии. В исследовании PEARL сравнивали эффективность гормональной терапии в комбинации с ингибиторами CDK4/6 и химиотерапии (капецитабином) у больных с мутацией в гене ESR1 [27]. Исследование не показало превосходства комбинированной гормональной терапии над химиотерапией капецитабином у пациентов с мутацией в гене ESR1. Вне зависимости от режима лечения (палбоциклиб + эксеместан, палбоциклиб + фулвестрант или капецитабин) продолжительность жизни больных с выявленной мутацией в гене ESR1 не превышала 30 мес [27].
Заключение
Современная гормональная терапия HR+/HER2- мРМЖ представляет собой последовательное применение препаратов таргетной терапии (ингибиторов CDK4/6, АКТ, mTOR, PIK3CA) в комбинации с эндокринной терапией. Развитие резистентности к гормональной терапии, обусловленное в том числе появлением мутаций в гене ESR1, снижает эффективность проводимого лечения и ограничивает выбор комбинаций. Диагностика мутаций в гене ESR1 методом цоДНК при наличии указанных ранее факторов может дать дополнительный шанс на улучшение исходов последующих линий терапии. Появление перспективных пероральных SERD может стать одной из опций улучшения отдаленных результатов лечения.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. А.А. Пайчадзе, С.А. Голубева – концепция, сбор материала, написание и редактирование текста; Е.П. Чашникова – написание текста.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. A.A. Paichadze, S.A. Golubeva – the concept, data collection, writing and editing the text; E.P. Chashnikova – writing the text.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
About the authors
Anna A. Paichadze
National Medical Research Radiological Centre
Author for correspondence.
Email: paiann@mail.ru
SPIN-code: 7492-2030
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, MoscowEkaterina P. Chashnikova
Email: paiann@mail.ru
chemists, individual entrepreneur
Russian FederationSofya A. Golubeva
National Medical Research Radiological Centre
Email: paiann@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0633-1738
oncologist
Russian Federation, MoscowReferences
- Martin LA, Riba R, Simigdala N, et al. Discovery of naturally occurring ESR1 mutations in breast cancer cell lines modelling endocrine resistance. Nat Commun. 2017;8:1865. doi: 10.1038/s41467-017-01864-y
- Рак молочной железы. Клинические рекомендации Минздрава РФ. 2021 [Rak molochnoi zhelezy. Klinicheskie rekomendatsii Minzdrava RF. 2021 (in Russian)].
- Колядина И.В., Поддубная И.В. ESRI-мутация как потенциальный предсказательный маркер для выбора тактики лечения при гормонорезистентном HR+/HER2-негативном раке молочной железы. Медицинский алфавит. 2020;(29):68-73 [Kolyadina IV, Poddubnaya IV. ESR1 mutation as potential predictive marker for choice of treatment tactics in hormone-resistant HR+/HER2-negative breast cancer. Medical Alphabet. 2020;(29):68-73 (in Russian)]. doi: 10.33667/2078-5631-2020-29-61-73
- Toy W, Shen Y, Won H, et al. ESR1 ligand-binding domain mutations in hormoneresistant breast cancer. Nat Genet. 2013;45(12):1439-45. doi: 10.1038/ng.2822
- Jeselsohn R, Buchwalter G, De Angelis C, et al. ESR1 mutations – a mechanism for acquired endocrine resistance in breast cancer. Nat Rev Clin Oncol. 2015;12(10):573-83. doi: 10.1038/nrclinonc.2015.117
- Hortobagyi GN, Chen D, Piccart M, et al. Correlative Analysis of Genetic Alterations and Everolimus Benefit in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: Results From BOLERO-2. J Clin Oncol. 2016;34(5):419-26. doi: 10.1200/JCO.2014.60.1971
- Wang P, Bahreini A, Gyanchandani R, et al. Sensitive Detection of Mono- and Polyclonal ESR1 Mutations in Primary Tumors, Metastatic Lesions, and Cell-Free DNA of Breast Cancer Patients. Clin Cancer Res. 2016;22(5):1130-7. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1534
- Schiavon G, Hrebien S, Garcia-Murillas I, et al. Analysis of ESR1 mutation in circulating tumor DNA demonstrates evolution during therapy for metastatic breast cancer. Sci Transl Med. 2015;7(313):313ra182. doi: 10.1126/scitranslmed.aac7551
- Li X. Clinical Implications of Monitoring ESR1 Mutations by Circulating Tumor DNA in Estrogen Receptor Positive Metastatic Breast Cancer: A Pilot Study. Transl Oncol. 2020;13(2):321-8. doi: 10.1016/j.tranon.2019.11.007
- Kuang Y, Siddiqui B, Hu J, et al. Unraveling the clinicopathological features driving the emergence of ESR1 mutations in metastatic breast cancer. NPJ Breast Cancer. 2018;4:22. doi: 10.1038/s41523-018-0075-5
- Chandarlapaty S, Chen D, Wei He W, et al. Prevalence of ESR1 Mutations in Cell-Free DNA and Outcomes in Metastatic Breast Cancer: A Secondary Analysis of the BOLERO-2 Clinical Trial. JAMA Oncol. 2016;2(10):1310-5. doi: 10.1001/jamaoncol.2016.1279
- Fribbens C, O’Leary B, Kilburn L, et al. Plasma ESR1 Mutations and the Treatment of Estrogen Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. J Clin Oncol. 2016;34(25):2961-8. doi: 10.1200/JCO.2016.67.3061
- Reinert T, Saad ED, Barrios CH, et al. Clinical Implications of ESR1 Mutations in Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. Front Oncol. 2017;7:26. doi: 10.3389/fonc.2017.00026
- Zundelevich A, Dadiani M, Kahana-Edwin S, et al. ESR1 mutations are frequent in newly diagnosed metastatic and loco-regional recurrence of endocrine-treated breast cancer and carry worse prognosis. Breast Cancer Res. 2020;22(1):16. doi: 10.1186/s13058-020-1246-5
- Tolaney SM, Chan A, Petrakova K, et al. AMEERA-3: Randomized Phase II Study of Amcenestrant (Oral Selective Estrogen Receptor Degrader) Versus Standard Endocrine Monotherapy in Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer. J Clin Oncol. 2023;41(24):4014-24. doi: 10.1200/JCO.22.02746
- Martín M, Lim E, Chavez-MacGregor M, et al. Giredestrant for Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative, Previously Treated Advanced Breast Cancer: Results From the Randomized, Phase II acelERA Breast Cancer Study. J Clin Oncol. 2024;42(18):2149-60. doi: 10.1200/JCO.23.01500
- Roche keeps expanding its SERD phase 3 programme. ApexOnco. Available at: https://www.oncologypipeline.com/apexonco/roche-keeps-expanding-its-serd-phase-3-programme. Accessed: 27.09.2024.
- Bidard FC, Kaklamani VG, Neven P, et al. Elacestrant (oral selective estrogen receptor degrader) Versus Standard Endocrine Therapy for Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: Results From the Randomized Phase III EMERALD Trial. J Clin Oncol. 2022;40(28):3246-56. doi: 10.1200/JCO.22.00338
- Колядина И.В. По следам SABCS 2022: TOP-12 исследований по распространенному раку молочной железы, которые могут изменить нашу клиническую практику. Современная Онкология. 2023;25(1):46-54 [Kolyadina IV. Following in the footsteps of SABCS 2022: top 12 advanced breast cancer studies that could change our clinical practice: A review. Journal of Modern Oncology. 2023;25(1):46-54 (in Russian)]. doi: 10.26442/18151434.2023.1.202102
- FDA approves elacestrant for ER-positive, HER2-negative, ESR1-mutated advanced or metastatic breast cancer. The US Food and Drug Agency. Available at: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-elacestrant-er-positive-her2-negative-esr1-mutated-advanced-or-metastatic-breast-cancer. Accessed: 27.09.2024.
- Burstein HB, DeMichele A, Somerfield MR, et al. Testing for ESR1 Mutations to Guide Therapy for Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Metastatic Breast Cancer: ASCO Guideline Rapid Recommendation Update. J Clin Oncol. 2023;41:3423-5. doi: 10.1200/JCO.23.00638
- Oliveira M, Pominchuk D, Nowecki Z, et al. Camizestrant, a next-generation oral SERD, vs fulvestrant in post-menopausal women with advanced ER-positive HER2-negative breast cancer: Results of the randomized, multi-dose phase 2 SERENA-2 trial. 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract GS3-02. Presented December 8, 2022.
- Turner N, Huang-Bartlett C, Kalinsky K, et al. Design of SERENA-6, a phase III switching trial of camizestrant in ESR1-mutant breast cancer during first-line treatment. Future Oncol. 2023;19(8):559-73. doi: 10.2217/fon-2022-1196
- Venetis K, Pepe F, Pescia C, et al. ESR1 mutations in HR+/HER2-metastatic breast cancer: Enhancing the accuracy of ctDNA testing. Cancer Treat Rev. 2023;121:102642. doi: 10.1016/j.ctrv.2023.102642
- Bidard FC, Hardy-Bessard AC, Dalenc F, et al. PADA-1 investigators. Switch to fulvestrant and palbociclib versus no switch in advanced breast cancer with rising ESR1 mutation during aromatase inhibitor and palbociclib therapy (PADA-1): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2022;23(11):1367-77. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00555-1
- Johnston SR, Kilburn LS, Ellis P, et al. Fulvestrant plus anastrozole or placebo versus exemestane alone after progression on non-steroidal aromatase inhibitors in postmenopausal patients with hormone-receptor-positive locally advanced or metastatic breast cancer (SoFEA): a composite, multicentre, phase 3 randomised trial. Lancet Oncol. 2013;14(10):989-98. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70322-X
- Martin M, Zielinski C, Ruiz-Borrego M, et al. Prognostic and predictive value of ESR1 mutations in postmenopausal metastatic breast cancer (MBC) patients (pts) resistant to aromatase inhibitors (AI), treated with palbociclib (PAL) in combination with endocrine therapy (ET) or capecitabine (CAP) in the PEARL study. J Clin Oncol. 2020;38(15):1022. doi: 10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.1022
Supplementary files